выход
форум проекта выход
- Вы не вошли.
#1 Апрель 3, 2015 23:29:45
- Дмитрий Ахтырский
-
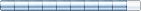
-

- Зарегистрирован: 2013-06-26
- Сообщения: 725
- Профиль Отправить e-mail
скотный двор - 2
В русскоязычном пространстве произошел весьма значительный, на мой взгляд, скандал, имеющий в основании «женский вопрос». Этот скандал одним из его участников был удачно назван «Медузагейт». Как и всякое значимое событие, медузагейт может обсуждаться не только в своей буквальности.
Буквальность же вопроса такова. Может ли издание, позиционирующее себя как западническо-либеральное, называть в редакционных рекламных твитах всех женщин как социальную группу словом «телочки» - и вдогонку вторым твитом обозначить этим словом журналиста-эксперта, возмутившегося первым твитом?
Однако событие оказалось триггером, который запустил обсуждение проблем куда более общего характера. В сети начали обсуждаться причины, обусловившие саму возможность появления таких твитов. В скандале интересно все – и демаркационная линия между конфликтующими сторонами, количество и состав последних, смыслы и концепты, эмоциональный посыл и интонирование.
1. Нарушение конвенции
Весьма любопытно, что наиболее адекватный текст о медузагейте был опубликован на националистическом сайте «Спутник & Погром» (автор – Артем Рондарев). К этому обстоятельству я еще вернусь в дальнейшем, а пока повторю своими словами некоторые мысли из этого текста, показавшиеся мне весьма важными.
«Белла Рапопорт, вступая изначально в договорные отношения с порталом «Медуза», ориентировалась на заявленную этим порталом его собственную идеологию — идеологию, скажем так, европейского либерализма — и полагала, что портал будет соблюдать соответствующий этой программе этикет». «…Если ты европейски ориентированный либерал, то ты не сочиняешь расистские и сексистские «приколы» про политкорректность». «…В той системе ценностей, которую коллектив «Медузы» взялся разделять, это слово в официальном контексте запрещено».
В любом сообществе существуют определенные языковые конвенции. Если эти конвенции не соблюдаются участником сообщества, то это ведет либо к трансформации сообщества в некое новое качество, либо к тому, что участник перестает быть членом сообщества (отторгает его сам или отторгается им). Язык университетского преподавателя, к примеру, может быть не принят в сообществе «фанатских» группировок и наоборот, скандирование фанатских кричалок будет неуместно на научной конференции.
Однако можно ли в принципе нарушать такие конвенции? Можно ли читать лекции фанатам и кричать «XYZ – чемпион» в университетской аудитории?
Некоторые конвенции могут быть подкреплены государственным законодательством, а нарушение их – вести к административной или даже уголовной ответственности. К таким случаям, к примеру, относится угроза физической расправой. Другие же конвенции регулируются сообществами самостоятельно.
Многое зависит от конкретики ситуации. Возьмем пример с фанатскими речевками на конференции. Если на конференцию пришла группа фанатов и мешает ее проведению, нарушая языковую конвенцию, организаторы конференции могут потребовать нарушителей покинуть аудиторию, а в случае отказа – обратиться к университетской охране или в полицию. Однако если организаторы не препятствуют такому поведению участников конференции или сами ведут себя подобным образом – научное сообщество перестанет рассматривать это мероприятие в качестве научного, конференция потеряет свой статус, произойдет отторжение. Заметим, что само по себе, как таковое, скандирование фанатских речевок на научной конференции не запрещено. Вполне представимы случаи, когда такие речевки звучат на конференциях по социологии, психологии, философии, этнографии, религии, политологии, фольклористике, этнографии, антропологии и т.д. – когда эти речевки являются объектом исследования. Замечу, что сам акт рецитации в данном случае не является правонарушением. Пропеть речевку можно. Правонарушением будет являться отказ подчиниться требованиям администрации покинуть аудиторию – то есть срыв конференции. «Можно ли прыгнуть с небоскреба? – Можно, но только один раз».
И точно так же, как я не буду ездить на псевдоконференции, захваченные футбольными фанатами - так я не буду читать издание, ориентирующееся на либерально-демократические ценности, в официальных редакционных материалах использующее слово «телка» и его производные. Такое слово может быть допустимо в иных контекстах – например, в искусстве. Я не перестану слушать «Аквариум», ознакомившись с текстом композиции «Мочалкин Блюз», или «Гражданскую оборону» после прослушивания «Эй, бабища, блевани». Но как лексема в новостном прозападном СМИ оно, казалось бы, совершенно неприемлемо, точно так же, как неприемлемо оно как обращение преподавателя к студенту или наоборот. «Медуза» теперь будет мною восприниматься как симуляция, подделка, суррогат, мимикрия. Так почему же такое словоупотребление все же имело место в твите издания «Медуза» - и почему значительная часть людей, традиционно считающихся в России либералами, встали на сторону этого издания, отнесли реакцию Беллы Рапопорт к «эксцессам феминизма», а саму ее подвергли диффамации?
2. Российский либерал и женский вопрос
Последнее время вновь получила распространение фраза «российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос». После медузагейта приходится признать, что значительная часть российских либералов мужского пола перестают быть либералами, когда речь заходит о женском вопросе и так называемом «феминизме». Да, о своем феминизме заявляла группа Pussy Riot, и эти заявления благосклонно проявлялись «либеральной» российской общественностью. Но месседж Pussy Riot имел множество аспектов – сугубо феминистским был только один из них. Когда же в сексизме было обвинено либеральное СМИ и вопрос сексизма встал перед этой общественностью как таковой, без дополнительных тематических привнесений – реакция части «либеральной общественности» оказалась вполне сексистской. Нарушение конвенции, допущенное «Медузой», не было воспринято многими «либералами» в качестве такового. Антон Носик заявил, что Белла Рапопорт толкает общество к тоталитаризму, а Роман Лейбов ввел в оборот мем «мачофеминизм». Рапопорт, таким образом, оказалась представленной как сторонник цензуры и противник свободы слова, своего рода «титушка» от феминизма, травящая либерализм в России вместе с путинским режимом и его сторонниками. Вердикт этих либералов – женщин вообще и Беллу Рапопорт в частности называть словом «телка» можно.
Таким образом, как «Медуза» проявила себя в данном скандале как симулятивное, псевдолиберальное издание, так и диффаматоры Беллы Рапопорт обнаружили себя в качестве псевдолибералов – явно или открыто, сознательно или бессознательно отрицающих либеральную повестку дня в том виде, в котором она к настоящему времени существует в странах Запада.
Надо заметить, что подобное саморазоблачение российских псевдолибералов происходит далеко не впервые в современной российской истории. Показательна реакция на «дело Сноудена». В то время, как либеральная западная общественность оказалась возмущена произволом государства и его спецслужб, расширяющих зоны контроля над человеком и обществом, российские псевдолибералы осудили Сноудена как предателя, и поддержали западных сторонников ужесточения контроля, поскольку «западные спецслужбы – это же не КГБ, они плохого делать не будут и осуществляют контроль в интересах самого общества и отдельных его представителей».
Очевидно, что слова «либерализм» и «либерал» в России и на Западе имеют различные значения. И если я неправ, и те, кого я называю «псевдолибералами», являются самыми настоящими либералами – то приставку «псевдо» следует приложить к тем, кто в настоящее время называется словом «либерал» на Западе.
Давайте посмотрим, кто мог называться в России «либералом» в XIX веке. Либералом, к примеру, мог считать себя и слыть в глазах окружающих помещик, проигрывающий за либеральными речами своих крепостных в карты. Во многом это был чисто внешний, напускной «либерализм», имеющий черты карго-культа. Образ такого карго-либерала нередко сатирически обыгрывался в русской литературе.
Но даже и самые настоящие российские либералы, глубоко знавшие тот Запад, о необходимости равняться на который они вели свои западнические речи – даже они никак не транслировали в Россию передовые западные наработки в области «женского вопроса». Не транслировали – поскольку на самом Западе этот вопрос только начинал подниматься, потому что и на самом Западе движение за женское равноправие только начинало свое развитие. Потому что те самые суфражистки – борцы за распространение на женщин избирательного права – были явлением новым для самого Запада и воспринимались российскими либералами (как настоящими, так и «псевдо») как нечто из ряда вон выходящее, эксцентричное, избыточное и в лучшем случае курьезное, в худшем же опасное и вредное для либерального дела в России. Ведь суфражистки для российского либерала – это какие-то крайние революционерки, которые отпугнут от либерализма тех, кого либерал уже был готов обратить в свою веру, которые дразнят правительственных гусей, уже готовых воспользоваться суфражистским скандалом как поводом для очередного закручивания гаек.
А теперь сравним сказанное в последнем предложении со словами Романа Лейбова: «В обществах с нормальной обратной связью это приводит к тому, что элиты шевелятся и начинают принимать всякие постановления, которые движут общество в более или менее правильном направлении. В иных обществах это приводит в лучшем случае к истерике в социальных сетях, а в худшем Яровая и Мизулина принимают какой-нибудь людоедский закон». То есть, по мнению Романа Лейбова, может быть, на Западе феминизм и хорош, но в России – несвоевременен. Дикая страна. Тут задача либерала – защита пещеры от тоталитарного пещерного медведя, а они тут лезут со своей дурацкой политкорректностью, перепутав Россию со Швецией.
При этом следует заметить, что такой дореволюционный «либерал» говорил о «преждевременности» лишь в лучшем случае. Стандартной его позицией было отрицание необходимости предоставлять женщинам равные права с мужчинами.
Разница между настоящим западным либералом и российским псевдолибералом в том, что либерал на Западе – человек, реально участвующий в сложных социальных процессах, идущих в его сообществах. Он осознавал два века назад и осознает сейчас, что его социум неоднороден, состоит из прогрессивных и регрессивных элементов, и что эволюция этого общества далеко не закончена. Западный либерал глядит вперед и нацелен на дальнейшее реформирование своего социального пространства.
Российский же псевдолиберал-подражатель склонен полагать, что Запад находится на неподвижном сияющем пьедестале. Он воспринимает Запад как социополитический культурный монолит, прекрасный в своем настоящем, на которое и следует равняться. Однако этот монолит пытаются и на Западе подточить некие темные силы – возможно, предполагает российский псевдолиберал, эти силы являются агентами российской (советской) власти. Нельзя отрицать, что агенты советского влияния на Западе и вправду существовали – как и в наши дни. Но парадоксальным образом такими агентами для российского псевдолиберала оказывается сама активная часть западного гражданского общества, ведущая у себя дома каждодневную борьбу с реакционными антигражданскими силами, которые присутствуют и на Западе, несмотря на игнорирование их существования российскими псевдолибералами. Последние таким образом оказываются врагами передовой части западного гражданского общества – и не воспринимаются этим обществом в качестве «братьев по политическому разуму».
В кастовом, сословном обществе фактически отсутствует универсальное понятие «человек». Люди разных сословий могли мыслиться в таком обществе как существа буквально различных биологических видов («белая кость», «голубая кровь»). В такой ситуации вопрос о женском равноправии не мог быть даже поставлен – кому именно должна быть равноправна «женщина» в таком мире? Поскольку в нем нет «человека» как такового, то в нем нет ни «мужчин», ни «женщин» как социальных оформленных групп. Женщина-брахман, женщина-аристократка все равно выше по своему социальному статусу, чем мужчина-неприкасаемый, мужчина-раб, мужчина-крепостной.
Буржуазные революции на Западе далеко не сразу привели к освобождению женщин. Мало того, в викторианскую эпоху женщины оказались бесправны, может быть, в наибольшей степени за всю европейскую историю – они потеряли право на работу, идеал женщины – «кюхе, киндер, кирхе». А общественная самореализация женщин могла иметь место только в организациях типа «обществ трезвости». Однако в XIX веке женщины в условиях полной или частичной ликвидации сословий обрели статус социальной группы, представители которой могли осознать себя едиными с другими женщинами. Возникла «женщина» - как социальная идентичность, осознаваемая ее носителем.
В романтическую эпоху реанимируется средневековый «культ Прекрасной дамы». Революционное значение этого культа в европейской истории трудно переоценить. Прекрасная дама – это высшее по отношению к своему поклоннику существо. В глубоко патриархальном мире такой культ, немыслимый в античности, если и не взорвал патриархальные гендерные стереотипы, то заложил под них бомбу замедленного действия. Отношение к женщине как к низшему, греховному, ритуально грязному существу в этом культе менялось на прямо противоположное. Поклонение Прекрасной даме было призвано облагораживать, очищать и духовно возвышать рыцаря-трубадура.
Новое же пробуждение этого культа в эпоху романтизма произошло уже в обществе, проникающемся просветительским духом, в ситуации осознания человеком своих «естественных прав», и новый этот культ уже существовал в социальной реальности, трансформируемой лозунгом «свобода, равенство, братство». Сочетание благоприятных концептуальных условий для возникновения идеи женского равноправия и описанные выше суровые викторианские ограничения создали особое натяжение, которое и закончилось взрывом трубадурской бомбы. Социальная активность «прекрасных дам» проявилась в деятельности амазонок-суфражисток.
Однако в Россию, в которой сословное общество существовало до 1917 года, происходившие на Западе процессы транслировались только узким кругом просвещенной аристократии, а после разночинства. Культ Прекрасной дамы стал для России открытием – поскольку в российском средневековье такого культа не было, как не было русских трубадуров. Точно так же, путем филиации идей, через посредничество российских отделений интернациональных субкультур появились свои суфражистки. И если западные суфражистки поддерживались тамошними либералами, то многие российские «либералы» отнеслись к идее женского равноправия как к чему-то чуждому, пытающемуся разрушить тот самый нерушимый монолитный идиллический образ западного мира, сложившийся в псевдолиберальном сознании. Ведь в России должно быть «как на Западе» - а суфражистки на тот момент были революционной силой и по меркам самого Запада.
Естественно, в такой ситуации суфражистки в России стали частью радикальных революционных движений.
Большевики, придя к власти, ввели в действие наиболее прогрессивное на тот момент времени законодательство в плане «равенства полов». Женщина наделялась полноценным избирательным правом, общим местом стали лозунги типа «освободим женщину от кухонного рабства». Женщины получили право на работу, право занимать руководящие должности. Резонанс этих мер был таков, что власти стран Запада пошли на существенную либерализацию в «женском вопросе». Хотя следует заметить, что еще в 50-е годы идеальная женщина в американском мейнстриме рисовалась домохозяйкой, а в 70-е замужняя француженка для устройства на работу должна была предоставить работодателю справку о согласии мужа.
Однако Советский Союз после 20-х годов всев большей степени становился симулятивным проектом. В сталинскую эпоху многие достижения предшествующего революционного и постреволюционного времени были свернуты. Реакция коснулась и положения дел в области женского равноправия. Де-юре женщина имела все гражданские права. Но де-факто в обществе развивался ретроградный сексизм, который ранее для революционного правосознания был в лучшем случае пережитком старого режима, а в худшем – контрреволюционным актом, идеологической и прямо физической диверсией.
Что же имело на руках «советское общество» ко второй половине XX века? Интеллигенция, с одной стороны, была носительницей культа «Прекрасной дамы» и его производных, наследовав в этом Серебряному веку. С другой, оставались некие остатки революционного романтизма, бескомпромиссно требовавшего полного женского равноправия. Но крайне важным фактором стала трансформация городской среды, городской культуры. «Класс-гегемон», пополнявшийся из деревни, в дворовой и школьной среде «перевоспитывал» и саму интеллигенцию. Лишенный атеистической власти религиозной морали, малообразованный человек часто не приобретал никакой другой, которая могла бы его облагородить. Дворовая мораль становилась моралью хулиганской, моралью блатной, моралью уголовной. Эта мораль глубоко регрессивна, культ матери в уголовном сообществе никак принципиально не влияет на место, которое женщина занимает в уголовном сознании.
Однако официальная советская культура и идеология не допускали в публичный дискурс дискриминирующие женщин проявления низовой культуры. Слэнг в культуре допускался только в своем деревенско-фольклорном, причем сильно «причесанном» варианте. Слово «телка» или ему подобное не могло ни прозвучать в телевизионной программе, ни быть напечатанным в газете. Такое положение существовало вплоть до начала «перестройки». На Западе же низовая культура легализировалась в искусстве, особенно массовом – и подобный «выпуск пара», возможно, предохранил общество в целом от гендерной реакции. Слово типа «телка» в редакционном тексте The New York Times непредставимо – несмотря на то, что в кинематографе или текстах реперов можно услышать все, что угодно. Низовая культура в эпоху масс-медиа, став (как и любой культурный объект) более доступной для потребителя, снова заняла свою нишу – и не может переступить через незримые демаркационные линии, отделяющие ее от (в частности) официального публичного дискурса ведущих СМИ. Точнее, эти проникновения имеют место, но они достаточно строго дозированы. Президент США может именовать себя уменьшительным именем, но не может назвать в публичном обращении часть населения своей страны словами «dirty nigger» или «white trash».
Но я несколько забежал вперед – вернусь к советскому периоду. И вот тут надо сказать, что значительная часть именно «советской интеллигенции» приветствовала реакцию в области гендерных взаимоотношений. Если для имперцев-государственников оказалось мило возвращение погон и армейских чинов, то интеллигенты (и не только) оказались рады смягчениям революционной требовательности в отношении «женского вопроса».
Оставим в стороне лояльную советской власти интеллигенцию. Если она была идейной – она уничтожалась вместе с очередным «великим переломом линии партии». Если она была конформистской – она принимала перемены, принимая линию партии как должное. Раздельное обучение мальчиков и девочек – хорошо, конформистски настроенный псевдоинтеллигент примет это. И это, и иное. В то время, как на Западе, пусть и с запозданием, шла гендерная революция, в СССР пошел обратный процесс – нового закрепления гендерных ролей и стереотипов.
Посмотрим на интеллигенцию антисоветско-прозападную, на «диссидентов» и околодиссидентские круги.
Экзистенциальная оппозиция режиму часто вела антисоветскую интеллигенцию к культивированию бытовых особенностей старого режима – даже если они вовсе не были поклонниками имперской самодержавной романовской монархии. К этим особенностям относились и гендерные стереотипы. Мужчина должен был быть «рыцарем», женщина – «прекрасной дамой». Интеллигент должен бы усвоить особые «светские манеры», кодекс поведения, частью которого была та самая «подача пальто», проблему которой многие в своем подхихикивающем неведении считают фронтиром борьбы за гендерное равноправие. Суть процесса – отторжение антисоветской интеллигенцией даже тех элементов советской идеологии, которые были прогрессивны и гуманны.
Как известно, советский человек имел священные права, совпадающие со священными же обязанностями. К числу таковых относилось и «право на труд» - уклоняющиеся от реализации этого права подвергались преследованию. Многие женщины в этих условиях с завистью размышляли о том, что их сестры в капиталистических странах имеют возможность сидеть дома и работать домохозяйкой. Есть ирония в том, что подобные буржуазно-мещанские мечты коррелировали со старым аристократическо-богемном мифом о Прекрасной даме – а мечтательницы не осознавали, что осуществление их мечты приведет их не в романтический рыцарственный мир, а в гинекей известных своей мизогинией древних эллинов (женщина, с точки зрения эллинов, не заслуживала того, чтобы в нее влюблялись).
Скажу только, что в неофициальном советском мифе женщина постепенно стала восприниматься как существо, в большей степени подверженное буржуазности, чем мужчина. Заботой так и не избавленной от кухонного рабства женщины был быт и воспитание детей, ей на откуп был отдан семейный бюджет – социализм же должен был вроде как строить мужчина. Этот миф во многом разделялся в своих глубинных основаниях и «несогласными» с режимом. Характерно, что бОльшая буржуазность женщины в мифе могла высмеиваться («Блондинка за углом»), но не преследовалась всерьез.
Интеллигенция в СССР продолжала существовать в европейском культурном пространстве, хотя и весьма специфически трансформированном. Это пространство, как я уже сказал, включало в себя культ Прекрасной дамы (плюс миф романтической любви), архаическо-низовая дискриминация и идея женского равноправия (спрофанированная симулятивным характером псевдосоветского государства).
Оставив в стороне низшую часть спектра гендерной мифологии позднесоветского времени (откуда и пришли в нашу жизнь слова типа «телка»), обращусь к высшей. Женщина позднесоветским адептом культа Прекрасной дамы воспринималась как некое высшее существо – и находилась вне политики, поскольку политика есть мужское недостойное дело. Надо оговорить особо, что мужчина с честью и совестью в советское время имел мало возможностей для общественной самореализации в силу господства отрицательного иерархического отбора. Дом был отдан женщине – оказалось, что у мужчины просто нет пространства для самореализации, он лишен возможности творчески выражать себя как дома, так и на работе. «Успешная» же самореализация во внешнем мире требовала, как правило, отказа от следования общечеловеческим нравственным принципам, потери достоинства. Но отношение «снизу вверх», отношения поклонения легко при изменении обстоятельств конвертируются в обратные, в отношения «сверху вниз». А в силу свойственной человеку мозаичности сознания один и тот же человек мужеского пола может и поклоняться женскому началу, и презирать его. Образованный человек мог быть циником и женоненавистником, наделяющим женщин низшим статусом – и транслирующим это отношение в реальность. «Высшее женское начало» в социальном пространстве сознанию мужчины начинает казаться нуждающимся в постоянной защите. При развитии чувства опеки эта опека становится навязчивой. «Высшее начало» оказывается не больше чем вещью – пусть и драгоценной. Собственностью, имеющей хозяина-мужчину.
В итоге идея женского равноправия, как и, к примеру, идея интернационализма, к концу советской эпохи осталась существовать де-юре, но де-факто оказалась сильно дискредитирована. Вместе с крахом СССР эти идеи понесли серьезный урон в сознании множества людей на постсоветском пространстве.
Но советский режим закономерно пришел в фазу катастрофы – и с разрушением привычного образа жизни женщины снова попали под влияние архетипа «необходимости защитника». Общество во многом оказалось отброшено в глубокую архаику – и отношения полов в результате этого провала пострадали едва ли не сильнее всего. Мечты о принце-олигархе, домашнее рабство, вполне прямое сексуальное рабство, сексуальные домогательства на работе, дискриминация в различных областях жизни – все это в условиях катастрофы резко интенсифицировалось. Романтика вытеснялась цинизмом. Место прекрасных дам и боевых подруг все чаще занимали «шлюхи», «суки» и «телки». Власть комсомольцев, чекистов и блатных отказалась от советских симуляцией. Ее позиция в гендерном вопросе – откровенный циничный, часто подзаборный фаллоцентризм.
Многим женщинам в этих условиях пришлось реализовывать полузабытые стратегии выживания, используя сам фактор дискриминации женщин как таковой. Неудивительно, что многие женщины, занимающие видные места в различных элитах, крайне негативно относятся к феминизму в любых его формах, вообще к борьбе за женское равноправие как таковой – ведь в более гуманной ситуации обществу были бы известны совсем другие персоналии женского пола.
Итак, очередная катастрофа, произошедшая с российским обществом, вызвала масштабный регресс в гендерной сфере. И «медузагейт» обнаружил, что фаллоцентризм в России имеет поддержку даже не путинского, а сталинского уровня. Оказалось, что в гендерном вопросе многие так называемые «либералы» отнюдь не являются сторонниками современной либеральной демократии, хотя по привычке и называют себя «западниками».
События, определяющие лицо подступающей новой эпохи, часто бывают не слишком заметны. Одним из событий, знаменовавших epic fail либерализма в России, стали имевшие место во времена «перестройки» встречи между интеллектуалами Запада и «прогрессивной российской интеллигенцией». Чеслав Милош предупреждал, что такие встречи могут обернуться большим разочарованием. Так и произошло. Стороны не узнали друг в друге «братьев по разуму». Российские интеллигенты в глазах интеллектуалов Запада оказались какими-то динозаврами, исповедующими почти что пещерные взгляды по многим вопросам культурной и общественной жизни. В свою очередь, западная сторона в глазах отечественного интеллигента выглядела едва ли не зараженной духом «левизны» - словно в гости к ним приехали «товарищи из социалистических стран». На Западе многие интеллектуалы и до сих пор не понимают, насколько именно антигуманным образованием был СССР. Российские «либералы» могут отправиться на свой любимый Запад только на машине времени (в случае изобретения оной) – поскольку Запада XIX века или хотя бы 50-х годов уже нет «и не предвидится». Даже времена Рейгана и Тэтчер – любимых российскими «либералами» западных политиков – ушли в прошлое. Современная повестка дня западного интеллектуала российскому псевдолибералу глубоко чужда и во многих аспектах непонятна – мало того, часто в принципе неизвестна.
Дело в том, что западное общество прошло (и продолжает проходить) через зону масштабнейшей культурной трансформации, которую можно назвать «вторым осевым временем». Эта трансформация, постепенно назревая в течение предшествующего столетия, приобрела взрывной характер в 60-х годах XX века. Эта революция затронула все стороны жизни западного человека – и гендерную едва ли не в первую очередь. Если континуальность этой революции ращепиить на дискретности – то окажется, что в этот период свершились гендерная и сексуальная революции. Общества же за «железным занавесом» оказались революцией 60-х лишь по касательной. Носителями духа этой революции в России стала часть богемы, некоторые субкультуры (хиппи) и «неавторитарные левые», интересовавшиеся социальными экспериментами, происходившими в странах Запада. Интеллигентский же мейнстрим остался в прошлой эпохе, в реальности, которую западное общество покинуло. Идеалом российского «либерала» стал мираж, консервативная утопия.
В результате в сознании российского «либерала» сложилось плохо осознаваемое его носителями противоречие. С одной стороны, он мыслит себя «западником», является противником идеи «многополярности мира» и сторонником идеи магистрального развития человечества по западному образцу. С другой же стороны, он стихийно отторгает западные реалии, которые появились в результате революции 60-х, к которым относятся в частности, новшества в гендерном вопросе.
Мало того, некоторые представители российского «либерализма» начали осознавать это противоречие – примером тому являются месседжи, регулярно посылаемые Юлией Латыниной. Эти «продвинутые» российские интеллектуалы полагают, продолжая считать себя либералами, что «Запад пошел не в ту сторону», что Запад соблазнился «социализмом», что Запад ослабляет себя потаканием «бездельникам», «мигрантам» и «левакам». Свой мираж, свою консервативную утопию они считают той точкой, в которую Запад должен вернуться. Апофеозом этой точки зрения является адресованное западным людям предложение отменить всеобщность выборов, введя избирательные (имущественные или образовательные) цензы.
А теперь сравним этих «либералов» с российскими «консерваторами». Вспомним Достоевского с его «святыми камнями Европы», которая стала тенью своего прошлого величия. Религиозные фундаменталисты хотят видеть Европу средневековой, Европой «традиционных ценностей», не принимая «европейскую католическую, протестантскую и модернистскую ересь». Получается, что российские «либералы» тоже оказались консерваторами, только «консервы» у них другие. Они почитают другую эпоху – но тоже прошедшую, они глядят назад, в то время как западная мысль работает с будущим.
Как ни печально, но последняя российская катастрофа почти под корень уничтожила в России прогрессизм. Мысли о будущем, о дальнейшем поступательном развитии человечества не интересуют в России практически никого. Традиционалисты честно смотрят в прошлое и зовут туда. «Либералы» жаждут XIX века и Рейгана. Большинство так называемых «левых» тоскуют по СССР. Россия стала страной тотальной ностальгии, в которой конкурируют между собой различные ностальгические проекты, прихотливо перемешиваясь и образуя ностальгинерский консервативно-традиционалистский паноптикум. Модернистские проекты в в российском ностальгинерском преломлении становятся симуляцией. Учитывая симулятивность российского фашизма, о которой я писал ранее, можно сказать, что Россия становится зоной тотальной симуляции. Исключением являются те обитатели российского культурного пространства, которые оказались причастны революции 60-х и процессам, инициированным ею (идущим и сегодня) – часть богемы, представители некоторых интернациональных субкультур, рожденных революцией 60-х, и «неавторитарные левые» (вроде Александра Володарского и Петра Павленского).
3. Выйти из гендерной войны
«Медузагейт» – недавний скандал, имеющий отношение к гендерному вопросу – заставил меня осознать, что гендерная тематика занимает в русскоязычном интеллектуальном пространстве совершенно неадекватное значению этой тематики место. С одной стороны, в книжном магазине при РГГУ (университете, в котором я много лет учился и преподавал) пара полок уже лет 10-15 назад была обозначена лейблом «Гендерные исследования». Однако там присутствовали в основном зарубежные переводные издания – общее же отношение к этой теме в российской гуманитарной среде было скорее пренебрежительное. «Женщины пишут о женщинах», «кормушка-поилка для любителей грантов» – стандартные отзывы российского гуманитария об этом направлении исследований.
Ныне же я, вслед за Мережковским, полагаю, что проблема «пола» (слова «гендер» российский Серебряный век еще не знал) является ключом ко всей антропологической проблематики, является одним из центров человеческой экзистенции. Творческое решение гендерного вопроса – путь к преображению человеческого существа, продолжающего во многом оставаться рабом древних бессознательных психологических программ, материалом для этологических исследований.
Именно гендерный шовинизм и дискриминация являются прототипом (во всяком случае, одним из основных прототипов) прочих видов дискриминации. Носитель иного гендера – «чужой» par excellence, и эта чуждость подчеркивается тем, что этот вид «чужого» невозможно уничтожить, не уничтожив всю свою группу (в этом отличие «чужого» гендера от «чужого» биологического вида или «чужой» племенной группы).
В силу близости представителей разных полов (в том числе и близости сексуальной в коитальном смысле слова) глубина гендерного шовинизма и гендерной дискриминации плохо осознается человеком. В неравновесные гендерные отношения со всеми присущими им атавизмами человек вступает фактически с самого своего рождения, некритически воспринимая стереотипы, транслирующиеся взрослыми, а затем и сверстниками. Расовый, этнический, государственнический шовинизм становится проблемой человека гораздо позже – а потому гораздо легче могут быть осознан и преодолен (как это наглядно показывает пример российской либеральной интеллигенции). Гендерный шовинист может искренне считать (когда акцентирует внимание на одном из элементов прихотливой мозаики недорационализированной картины мира), что он «любит» носителей иной гендерной идентичности. Но тут уместно вспомнить анекдот, герой которого в ответ на вопрос, любит ли он помидоры, отвечает: «Кушать люблю, а так – нет».
Можно долго спорить об основных и второстепенных аспектах гендерной войны. Можно по-разному оценивать степень виновности и масштаба преступлений той или другой стороны. Можно по-разному оценивать современные диспозиции на тех или иных участках фронта.
Но прежде всего – нужно выйти из гендерной войны. Сложить оружие и сорвать погоны.
Да, таким способом сразу насилие не остановишь. И я не призываю отказаться от сопротивления. Но сопротивление может не быть частью гендерной войны. Оно может быть просто сопротивлением насилию – и не сопровождаться дальнейшим впечатыванием в гендерный стереотип, что на войне часто происходит.
Сексуально-гендерная революция на Западе имела результатом не просто шаги по пути «освобождения женщин» или «достижения гендерного равноправия». Эта революция дала большому количеству людей возможность разотождествиться с привычным образом себя, освободиться от идентификаций, навязываемых социумом. Человек получил принципиальную возможность считать себя не имеющим гендера – или рассматривать гендерную идентичность как нечто вторичное в своей основе. Впрочем, он получил такое же право возводить свой или чужой гендер на пьедестал и всячески его пестовать, холить и лелеять. Развивать его в ту или иную сторону. Формировать для себя различные модели поведения. Род перестал диктовать человеку свою неумолимую волю. Человек в результаете последней сексуально-гендерной революции получил возможность выйти на новый этап индивидуализации.
Разотождествление с собственным гендером позволяет взглянуть на собственные гендерные проявления (и аналогичные проявления других людей) со стороны, с более высокой позиции, не будучи ангажированным той или иной стороной, не ослепленным «правотой» своей воюющей стороны. При этом такое разотождествление не предполагает полного отказа от гендерной идентификации – возможность разотождествления просто позволяет играть в гендерные игры не постоянно. Если и есть на планете «мужчины» и «женщины» - они вправе вести себя как им угодно, в пределах кантовского категорического императива. «Настоящая женщина» существует в бесконечном количестве вариантов – как и «настоящий мужчина». Но, как и религиозность или национальность, гендер все более становится глубоко личным, а не общественным делом. Тенденция развития западного общества – минимизация вмешательства социума в процесс формирования и трансформации религиозной, национальной и гендерной самоидентификаций индивидуума. В этом свете вполне рациональной видится мне тенденция отказа от упоминания гендерного (полового) маркера в официальных документах – имею в виду замены «отца» и матери» на родителей», а «мужа» и «жены» - на «супругов». Только травмированное и порабощенное реалиями гендерной войны сознание может считать, что такая практика ведет к дискредитации высших ценностей человека. Напротив, она способствует освобождению человека, его творческой незаштампованной самореализации и любви. Любви – потому что человеку, чтобы по-настоящему полюбить другого человека, нужно научиться видеть его вне гендерного стереотипа, делающего из лица примитивную маску.
Российские консерваторы всех мастей ужасаются при мысли о сексуальной революции. Они любят говорить о счастливом детстве и о достоинстве женщины, которые якобы могут иметь место только в «традиционной семье». Но такие рекламные ходы – только прикрытие истинного положения вещей, при котором семья является поставщиком пушечного мяса и сексрабынь. Попытка запретить само обсуждение проблемы «семейного насилия», сочтя его «экстремистским действием», разоблачает традиционалистские мифы «заботы о женщинах и детях». Традиционалисты показали из-под маски свое лицо – лицо поборника закона джунглей и права силы.
И ужас современного традиционалиста перед сексуальной революцией заключается в том, что тех страшилок, которые он рисует на публику, не существует в реальности. Современное западное общество вовсе не производит впечатление «растленного», в котором все люди непрерывно занимаются сексом или размышляют о нем. Напротив, для современного россиянина западная жизнь в сексуальной сфере может показаться несколько пресноватой (тут, кстати, как раз и вступает «второй патриархальный фронт», кричащий о десексуализирующих ужасах феминизма).
Дело в том, что фундаментальным ограничителем сексуальной свободы в ходже последней сексуальной революции стал запрет на принуждение. Ты можешь не иметь сексуального партнера, иметь одного, двух или тысячи. Ты можешь заключать брак со своим партнером или нет. Ты можешь иметь сексуального партнера любого пола. Ты можешь менять свой собственный пол и гендерные роли. Ты не можешь только одного – применять насилие (ролевые игры, будучи добровольными, не в счет).
Казалось бы, очевидно, что к разновидностям насилия и принуждения к сексу относится то, что в английском языке именуется «sexual harassment». Казалось бы, между зашкаливающим уровнем насилия в обществе и дегуманизацией (выражающейся в уничижительных обращениях типа той самой «телки») связь более чем очевидна. Но, как выяснилось давеча, многим российским самопровозглашенным «либералам» эта связь очевидной не кажется.
Одно из двух – либо придется учиться гендерному ненасилию и отказу от навязывания другому гендерных стереотипов, либо российское общество никогда не излечится от своих болезней, поскольку гендерные атавизмы пронизывают всю социальную ткань.
Особое мнение профессора Арчибальда Мессенджера
Отредактировано (Март 17, 2025 23:52:13)
Офлайн