выход
форум проекта выход
- Вы не вошли.
- Начало
- » Историософия
- » О голодоморе на Украине на примере ОДНОЙ деревни.
![[RSS Feed] [RSS Feed]](/static/djangobb_forum/img/feed-icon-small.png)
#1 Сен. 29, 2013 02:13:07
- Александр
-
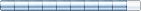
-

- От: New Jersey, USA
- Зарегистрирован: 2013-06-27
- Сообщения: 879
- Профиль Отправить e-mail
О голодоморе на Украине на примере ОДНОЙ деревни.
Василий Гроссман. Всё Течет
(О голодоморе на Украине на примере ОДНОЙ деревни).
(Прошу перепостить на ЮС в “Заповеднике ПавКи”).
А я тогда уже не полы мыла, а счетоводом стала. И меня как активистку
послали на Украину для укрепления колхоза. У них, нам объясняли, дух
частной собственности сильней, чем в Рэсэфэсэр. И правда, у них еще хуже,
чем у нас дело шло. Послали меня недалеко, мы ведь на границе с Украиной, -
трех часов езды от нас до этого места не было. А место красивое. Приехала я
туда - люди как люди. И стала я в правлении ихнем счетоводом.
Я во всем, мне кажется, разобралась. Меня, видно, недаром старик
министром назвал. Это я тебе только так говорю, потому что тебе - как себе,
а постороннему человеку я никогда не похвастаюсь про себя. Всю отчетность я
без бумаги в голове держала. И когда инструктаж был, и когда наша тройка
заседала, и когда руководство водку пило, я все разговоры слушала.
Как было? После раскулачивания очень площади упали и урожайность стала
низкая. А сведения давали - будто без кулаков сразу расцвела наша жизнь.
Сельсовет врет в район, район - в область, область - в Москву. И докладывают
про счастливую жизнь, чтобы Сталин порадовался: в колхозном зерне вся его
держава купаться будет. Поспел первый колхозный урожай, дала Москва цифры
заготовки. Все как нужно: центр - областям, области - по районам. И нам дали
в село заготовку - и за десять лет не выполнить! В сельсовете и те, что не
пили, со страху перепились. Видно, Москва больше всего на Украину
понадеялась. Потом на Украину и больше всего злобы было. Разговор-то
известный: не выполнил - значит, сам недобитый кулак.
Конечно, поставки нельзя было выполнить - площади упали, урожайность
упала, откуда же его взять, море колхозного зерна? Значит - спрятали!
Недобитые кулаки, лодыри. Кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная
собственность у хохла в голове хозяйка.
Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю - неужели Сталин? Я думаю,
такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то
что царь, но и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ -
убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми
детьми. Указание было забрать и семенной фонд весь. Искали зерно, как будто
не хлеб это, а бомбы, пулеметы. Землю истыкали штыками, шомполами, все
подполы перекопали, все полы повзламывали, в огородах искали. У некоторых
забирали зерно, что в хатах было, - в горшки, в корыта ссыпаны. У одной
женщины хлеб печеный забрали, погрузили на подводу и тоже в район отвезли.
Днем и ночью подводы скрипели, пыль над всей землей висела, а элеваторов
не было, ссыпали на землю, а кругом часовые ходят. Зерно к зиме от дождя
намокло, гореть стало - не хватило у советской власти брезента мужицкий хлеб
прикрыть.
А когда еще из деревень везли зерно, кругом пыль поднялась, все в дыму: и
село, и поле, и луна ночью. Один с ума сошел: горим, небо горит, земля
горит! Кричит! Нет, небо не горело, это жизнь горела.
Вот тогда я поняла: первое для советской власти - план. Выполни план!
Сдай разверстку, поставки! Первое дело - государство. А люди - нуль без
палочки.
Отцы и матери хотели детей спасти, хоть немного хлеба спрятать, а им
говорят: у вас лютая ненависть к стране социализма, вы план хотите сорвать,
тунеядцы, подкулачники, гады. Не план сорвать, детей хотели спасти, самим
спастись. Кушать ведь людям нужно.
Рассказать я все могу, только в рассказе слова, а это ведь жизнь, мука,
смерть голодная. Между прочим, когда забирали хлеб, объясняли активу, что из
фондов кормить будут. Неправда это была. Ни зерна голодным не дали.
Кто отбирал хлеб, большинство свои же, из РИКа, из райкома, ну комсомол,
свои же ребята, хлопцы, конечно, милиция, энкаведе, кое-где даже войска
были, я одного мобилизованного московского видела, но он не старался как-то,
все стремился уехать… И опять, как при раскулачивании, люди все какие-то
обалделые, озверелые стали.
Гришка Саенко, милиционер, он на местной, деревенской, был женат и
приезжал гулять на праздники - веселый, и хорошо танцевал танго и вальс, и
пел украинские песни деревенские. А тут к нему подошел дедушка совсем
седенький и стал говорить: “Гриша, вы нас всех защищаете, это хуже убийства,
почему рабоче-крестьянская власть такое против крестьянства делает, чего
царь не делал…” Гришка пихнул его, а потом пошел к колодцу руки мыть,
сказал людям: “Как я буду ложку рукой брать, когда я этой паразитской морды
касался”.
А пыль - и ночью и днем пыль, пока хлеб везли. Луна - вполнеба - камень,
и от этой луны все диким кажется, и жарко так ночью, как под овчиной, и
поле, хоженое-перехоженное, как смертная казнь, страшное.
И люди стали какие-то растерянные, и скотина какая-то дикая, пугается,
мычит, жалуется, и собаки выли сильно по ночам. И земля потрескалась.
Ну вот, а потом осень пришла, дожди, а потом зима снежная. А хлеба нет.
И в райцентре не купишь, потому что карточная система. И на станции не
купишь, в палатке, - потому что военизированная охрана не подпускает. А
коммерческого хлеба нет.
С осени стали нажимать на картошку, без хлеба быстро она пошла. А к
рождеству начали скотину резать. Да и мясо это на костях, тощее. Курей
порезали, конечно. Мясцо быстро подъели, а молока глоточка не стало, во всей
деревне яичка не достанешь. А главное - без хлеба. Забрали хлеб у деревни до
последнего зерна. Ярового нечем сеять, семенной фонд до зернышка забрали.
Вся надежда на озимый. Озимые под снегом еще, весны не видно, а уж деревня
в голод входит. Мясо съели, пшено, что было, подъедают вчистую, картошку, у
кого семьи большие, съели всю.
Стали кидаться ссуды просить - в сельсовете, в район. Не отвечают даже. А
доберись до района, лошадей нет, пешком по большаку девятнадцать
километров.
Ужас сделался. Матери смотрят на детей и от страха кричать начинают.
Кричат, будто змея в дом вползла. А эта змея - смерть, голод. Что делать? А
в голове у селян только одно - что бы покушать. Сосет, челюсти сводит, слюна
набегает, все глотаешь ее, да слюной не накушаешься. Ночью проснешься,
кругом тихо: ни разговору, ни гармошки. Как в могиле, только голод ходит, не
спит. Дети по хатам с самого утра плачут - хлеба просят. А что мать им даст
- снегу? А помощи ни от кого. Ответ у партийных один - работать надо было,
лодырничать не надо было. А еще отвечали: у себя самих поищите, в вашей
деревне хлеба закопано на три года.
Но зимой еще настоящего голода не было. Конечно, вялые стали, животы
вздуло от картофельных очистков, но опухших не было. Стали желуди из-под
снега копать, сушили их, а мельник развел жерновы пошире, молол желуди на
муку. Из желудей хлеб пекли, вернее, лепешки. Они темные очень, темнее
ржаного хлеба. Кое-кто добавлял отрубей или картофельных очистков толченых.
Желуди быстро кончились - дубовый лесок небольшой, а в него сразу три
деревни кинулись. А приехал из города уполномоченный и в сельсовете говорил
нам: вот паразиты, из-под снега голыми руками желуди таскают, только бы не
работать.
В школу старшие классы почти до самой весны ходили, а младшие зимой
перестали. А весной школа закрылась - учительница в город уехала. И с
медпункта фельдшер уехал - кушать стало нечего. Да и не вылечишь голода
лекарством. Деревня одна осталась - кругом пустыня и голодные в избах. И
представители разные из города ездить перестали - чего ездить? Взять с
голодных нечего, значит, и ездить не надо. И лечить не надо, и учить не
надо. Раз с человека держава взять ничего не может, он становится
бесполезный. Зачем его учить да лечить?
Сами остались, отошло от голодных государство. Стали люди по деревне
ходить, просить друг у друга, нищие у нищих, голодные у голодных. У кого
детей поменьше или одинокие, у таких кое-что к весне оставалось, вот
многодетные у них и просили. И случалось, давали горстку отрубей или
картошек парочку. А партийные не давали - и не от жадности или по злобе,
боялись очень. А государство зернышка голодным не дало, а оно ведь на
крестьянском хлебе стоит. Неужели Сталин про это знал? Старики рассказывали:
голод бывал при Николае - все же помогали, и в долг давали, и в городах
крестьянство просило Христа ради, и кухни такие открывали, и пожертвования
студенты собирали. А при рабоче-крестьянском правительстве зернышка не дали,
по всем дорогам заставы - войска, милиция, энкаведе - не пускают голодных из
деревень, к городу не подойдешь, вокруг станций охрана, на самых малых
полустанках охрана. Нету вам, кормильцы, хлеба. А в городе по карточкам
рабочим по восемьсот грамм давали. Боже мой, мыслимо ли это - столько хлеба
- восемьсот грамм! А деревенским детям ни грамма. Вот как немцы - детей
еврейских в газу душили: вам не жить, вы жиды. А здесь совсем не поймешь - и
тут советские, и тут советские, и тут русские, и тут русские, и власть
рабоче-крестьянская, за что же эта погибель?
А когда снег таять стал, вошла деревня по горло в голод.
Дети кричат, не спят: и ночью хлеба просят. У людей лица, как земля,
глаза мутные, пьяные. И ходят сонные, ногой землю щупают, рукой за стенку
держатся. Шатает голод людей. Меньше стали ходить, все больше лежат. И все
им мерещится - обоз скрипит, из райцентра прислал Сталин муку - детей
спасать.
Бабы крепче оказались мужчин, злее за жизнь цеплялись. А досталось им
больше - дети кушать у матерей просят. Некоторые женщины уговаривают,
целуют детей: “Ну не кричите, терпите, где я возьму?” Другие как бешеные
становятся: “Не скули, убью!” - и били чем попало, только бы не просили. А
некоторые из дому выбегали, у соседей отсиживались, чтобы не слышать
детского крика.
К этому времени кошек и собак не осталось - забили. И ловить их было
трудно - они опасались людей, глаза дикие у них стали. Варили их, жилы одни
сухие, из голов стюдень вываривали.
Снег стаял, и пошли люди опухать, пошел голодный отек - лица пухлые, ноги
как подушки, в животе вода, мочатся все время - на двор не успевают
выходить. А крестьянские дети: видел ты, в газете печатали - дети в немецких
лагерях? Одинаковы: головы, как ядра, тяжелые, шеи тонкие, как у аистов, на
руках и на ногах видно, как каждая косточка под кожей ходит, как двойные
соединяются, весь скелет кожей, как желтой марлей, затянут. А лица у детей
старенькие, замученные, словно младенцы семьдесят лет на свете уж прожили, а
к весне уж не лица стали: то птичья головка с клювиком, то лягушечья
мордочка - губы тонкие, широкие, третий как пескарик - рот открыт.
Нечеловеческие лица, а глаза, господи! Товарищ Сталин, боже мой, видел ты
эти глаза? Может быть, и в самом деле он не знал, он ведь статью написал про
головокружение.
Чего только не ели - мышей ловили, крыс ловили, галок, воробьев,
муравьев, земляных червей копали, стали кости на муку толочь, кожу, подошву,
шкуры старые вонючие на лапшу резали, клей вываривали. А когда трава
поднялась, стали копать корни, варить листья, почки, все в ход пошло - и
одуванчик, и лопух, и колокольчики, и иван-чай, и сныть, и борщевик, и
крапива, и очиток… Липовый лист сушили, толкли на муку, но у нас липы мало
было. Лепешки из липы зеленые, хуже желудовых.
А помощи нет! Да тогда уж не просили! Я и теперь, когда про это думать
начинаю, с ума схожу, - неужели отказался Сталин от людей? На такое
страшное убийство пошел. Ведь хлеб у Сталина был. Значит, нарочно убивали
голодной смертью людей. Не хотели детям помочь. Неужели Сталин хуже Ирода
был? Неужели, думаю, хлеб до зерна отнял, а потом убил людей голодом. Нет,
не может такого быть! А потом думаю: было, было! И тут же - нет, не могло
того быть!
Вот когда еще не обессилели, ходили полем к железной дороге, не на
станцию, на станцию охрана не допускала, а прямо на пути. Когда идет скорый
поезд Киев - Одесса, на колени становятся и кричат: хлеба, хлеба! Некоторые
своих страшных детей поднимают. И, случалось, бросали люди куски хлеба,
объедки разные. Пыль уляжется, отгрохочет, и ползает деревня вдоль пути,
корки ищет. Но потом вышло распоряжение, когда поезд через голодные
области шел, охрана окна закрывала и занавески спускала. Не допускала
пассажиров к окнам. Да и сами деревенские ходить перестали - сил не стало не
то что до рельсов дойти, а из хаты во двор выползти.
Я помню, один старик принес председателю кусок газеты, подобрал его на
путях. И там заметка: француз приехал, министр знаменитый, и его повезли в
Днепропетровскую область, где самый страшный мор был, еще хуже нашего, там
люди людей ели, и вот в село его привезли, в колхозный детский садик, и он
спрашивает: “Что вы сегодня на обед кушали?”, а дети отвечают: “Куриный суп
с пирожком и рисовые котлеты”. Я сама читала, вот как сейчас вижу этот кусок
газеты. Что ж это? Убивают, значит, на тихаря миллионы людей и весь свет
обманывают! Куриный суп, пишут! Котлеты! А тут червей всех съели. А старик
председателю сказал: при Николае на весь свет газеты про голод писали -
помогите, крестьянство гибнет. А вы, ироды, театры представляете!
Завыло село, увидело свою смерть. Всей деревней выли - не разумом, не
душой, а как листья от ветра шумят или солома скрипит. И тогда меня зло
брало - почему они так жалобно воют, уж не люди стали, а кричат так жалобно.
Надо каменной быть, чтобы слушать этот вой и свой пайковый хлеб кушать.
Бывало, выйду с пайкою в поле, и слышно: воют. Пойдешь дальше, вот-вот,
кажется, стихло, пройду еще, и опять слышнее становится, - это уж соседняя
деревня воет. И кажется, вся земля вместе с людьми завыла. Бога нет, кто
услышит?
Мне один энкаведе сказал: “Знаешь, как в области ваши деревни называют:
кладбища суровой школы”. Но я сперва не поняла этих слов. А погода какая
стояла хорошая! В начале лета шли дожди, такие быстрые, легкие, солнце
жаркое вперемешку с дождем, - и от этого пшеница стеной стояла, топором ее
руби, и высокая, выше человеческого роста. В это лето радуги сколько я
нагляделась, и грозы, и дождя теплого, цыганского.
Гадали все зимой, будет ли урожай, стариков расспрашивали, приметы
перебирали - вся надежда была на озимую пшеницу. И надежда оправдалась, а
косить не смогли. Зашла я в одну избу. Люди лежат то ли еще дышат, то ли уже
не дышат, кто на кровати, кто на печке, а хозяйская дочь, я ее знала, лежит
на полу в каком-то беспамятстве зубами грызет ножку у табуретки. И так
страшно это - услышала она, что я вошла, не оглянулась, а заворчала, как
собаки ворчат, если к ним подходят когда они кость грызут.
Пошел по селу сплошной мор. Сперва дети, старики, потом средний возраст.
Вначале закапывали, потом уж не стали закапывать. Так мертвые и валялись на
улицах, во дворах, а последние в избах остались лежать. Тихо стало. Умерла
вся деревня. Кто последним умирал, я не знаю. Нас, которые в правлении
работали, в город забрали.
Попала я сперва в Киев. Стали как раз в эти дни коммерческий хлеб давать.
Что делалось! Очереди по полкилометра с вечера становились. Очереди,
знаешь, разные бывают - в одной стоят, посмеиваются, семечки грызут, в
другой номера на бумажках списывают, в третьей, где не шутят, на ладони
пишут либо на спине мелом. А тут очереди особые - я таких больше не видела.
Друг дружку обхватывают за пояс и стоят один к одному. Если кто оступится,
всю очередь шатнет, как волна по ней проходит. И словно танец начинается -
из стороны в сторону. И все сильней качаются. Им страшно, что не хватит силы
за передового цепляться и руки разожмутся, и от этого страха женщины кричать
начинают, и так вся очередь воет, и кажется, они с ума посходили - поют да
танцуют. А то шпана в очередь врывается: смотрят, где цепь легче порвать. И
когда шпана подходит, все снова воют от страха, а кажется, что они поют. В
очереди за коммерческим хлебом стоял народ городской - лишенцы,
беспаспортные, ремесло - либо пригородные.
А из деревни ползет крестьянство. На вокзалах оцепление, все составы
обыскивают. На дорогах всюду заставы - войска, энкаведе, а все равно
добираются до Киева - ползут полем, целиной, болотами, лесочками, только бы
заставы миновать на дорогах. На всей земле заставы не поставишь. Они уж
ходить не могут, а только ползут. Народ спешит по своим делам, кто на
работу, кто в кино, трамваи ходят, а голодные среди народа ползут - дети,
дядьки, дивчины, и кажется, это не люди, какие-то собачки или кошечки
паскудные на четвереньках. А оно еще хочет по-человечески, стыд имеет,
дивчина ползет опухшая, как обезьяна, скулит, а юбку поправляет, стыдается,
волосы под платок прячет - деревенская, первый раз в Киев попала. Но это
счастливые доползли, один на десять тысяч. И все равно им спасения нет -
лежит голодный на земле, шипит, просит, а кушать он не может, краюшка рядом,
а он уже ничего не видит, доходит.
По утрам ездили платформы, битюги, собирали которые за ночь умерли. Я
видела одну платформу - дети на ней сложены. Вот как я говорила -
тоненькие, длинненькие, личики, как у мертвых птичек, клювики острые.
Долетели эти пташки до Киева, а что толку? А были среди них - еще пищали,
головки, как налитые, мотаются. Я спросила возчика, он рукой махнул: пока
довезу до места - притихнут. Я видела: дивчина одна поползла поперек
тротуара, ее дворник ногой ударил, она на мостовую скатилась. И не
оглянулась даже, ползет быстро, быстро, старается, откуда еще сила. И еще
платье отряхивает, запылилось, видишь. А я в этот день газету московскую
купила, прочла статью Максима Горького, что детям нужны культурные игрушки.
Неужели Максим Горький не знал про тех детей, что битюги на свалку
вывозили, - им, что ли, игрушки? А может быть, он знал? И так же молчал, как
все молчали. И так же писал, как те писали, - будто эти мертвые дети едят
куриный суп. Мне этот ломовой сказал: больше всего мертвых возле
коммерческого хлеба - сжует опухший кусочек и готов. Запомнился мне Киев
этот, хоть я там всего три дня пробыла.
Вот что я поняла. Вначале голод из дому гонит. В первое время он, как
огонь, печет, терзает, и за кишки, и за душу рвет, - человек и бежит из
дому. Люди червей копают, траву собирают, видишь, даже в Киев прорывались. И
все из дому, все из дому. А приходит такой день, и голодный обратно к себе в
хату заползает. Это значит - осилил голод, и человек уж не опасается,
ложится на постель и лежит. И раз человека голод осилил, его не подымешь, и
не только оттого, что сил нет, - нет ему интереса, жить не хочет. Лежит себе
тихо - и не тронь его. И есть голодному не хочется, мочится все время и
понос, и голодный становится сонный, не тронь его, только бы тихо было.
Лежат голодные и доходят. Это рассказывали и военнопленные - если ложится
пленный боец на нары, за пайкой не тянется, значит, конец ему скоро. А на
некоторых безумие находило. Эти уж до конца не успокаивались. Их по глазам
видно - блестят. Вот такие мертвых разделывали и варили и своих детей
убивали и съедали. В этих зверь поднимался, когда человек в них умирал. Я
одну женщину видела, в райцентр ее привезли под конвоем - лицо человечье, а
глаза волчьи. Их, людоедов, говорили, расстреливали всех поголовно. А они не
виноваты, виноваты те, что довели мать до того, что она своих детей ест. Да
разве найдешь виноватого, кого ни спроси. Это ради хорошего, ради всех людей
матерей довели.
Я тогда увидела - всякий голодный, он вроде людоед. Мясо сам с себя
объедает, одни кости остаются, жир до последней капельки. Потом он разумом
темнеет - значит, и мозги свои съел. Съел голодный себя всего.
Еще я думала - каждый голодный по-своему умирает. В одной хате война
идет, друг за другом следят, друг у дружки крохи отнимают. Жена на мужа, муж
против жены. Мать детей ненавидит. А в другой хате любовь нерушимая. Я знала
одну такую, четверо детей, - она и сказки им рассказывает, чтобы про голод
забыли, а у самой язык не ворочается, она их на руки берет, а у самой уж
силы нет пустые руки поднять. А любовь в ней живет. И замечали люди - где
ненависть, там скорей умирали. Э, да что любовь, тоже никого не спасла, вся
деревня поголовно легла. Не осталось жизни.
Я узнала потом - тихо стало в деревне нашей. И детей не слышно. Там уж ни
игрушек, ни супа куриного не надо. Не выли. Некому. Узнала, что пшеницу
войска косили, только красноармейцев в мертвую деревню не допускали, в
палатках стояли. Им объясняли, что эпидемия была. Но они жаловались, что от
деревень запах ужасный шел. Войска и озимые посеяли. А на следующий год
привезли переселенцев из Орловской области - земля ведь украинская,
чернозем, а у орловских всегда недород. Женщин с детьми оставили возле
станции в балаганах, а мужчин повели в деревню. Дали им вилы и велели по
хатам ходить, тела вытаскивать - покойники лежали, мужчины и женщины, кто на
полу, кто на кроватях. Запах страшный в избах стоял. Мужики себе рты и
носы платками завязывали - стали вытаскивать тела, а они на куски
разваливаются. Потом закопали эти куски за деревней. Вот тогда я поняла -
это и есть кладбище суровой школы. Когда очистили от мертвых избы, привели
женщин полы мыть, стены белить. Все сделали, как надо, а запах стоит. Второй
раз побелили и полы наново глиной мазали - не уходит запах. Не смогли они в
этих хатах ни есть, ни спать, вернулись в Орловскую обратно. Но, конечно,
земля пустой не осталась - земля ведь какая!
И словно не жили. А многое чего было. И любовь, и жены от мужей уходили,
и дочерей замуж отдавали, и дрались пьяными, и гости приезжали, и хлеб
пекли… А работали как! И песни спевали. И дети в школу ходили… И
кинопередвижка приезжала, самые старые, и те ходили картины смотреть.
И ничего не осталось. А где же эта жизнь, где страшная мука? Неужели
ничего не осталось? Неужели никто не ответит за это все? Вот так и забудется
без следа? Травка выросла.
Злобно врущее зловрейство, хамской наглости привычки –
Нынче звать “гуманитарий”!.. Я беру его в кавычки.
Разве он – гуманитарий? Без кавычек – он свинья,
Шмаровоз на холуятне русофобского вранья!
ЮННА МОРИЦ
Отредактировано Alexander (Сен. 29, 2013 02:16:58)
Офлайн
#2 Сен. 29, 2013 02:20:12
- Александр
-
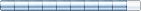
-

- От: New Jersey, USA
- Зарегистрирован: 2013-06-27
- Сообщения: 879
- Профиль Отправить e-mail
О голодоморе на Украине на примере ОДНОЙ деревни.
Василий Гроссман. Всё Течет
(О голодоморе на Украине на примере ОДНОЙ семьи).
(Прошу перепостить на ЮС в “Заповеднике ПавКи”).
Голос у Василия Тимофеевича был негромкий, движения нерешительные. Когда
заговаривали с Ганной, она опускала карие глаза и отвечала едва слышно.
А после женитьбы они совсем застеснялись: он, пятидесятилетний человек,
которого соседские дети называли “диду”, засмущался, засовестился оттого,
что седеющий, лысый, с морщинами женился на молодой девушке, счастлив своей
любовью, глядя на нее шепчет: “Голубка моя… серденько мое”. Когда-то ей,
девчонке, представлялся будущий муж, - он и Щорс, и лучший гармонист на
селе, и пишет задушевные стихи, как Тарас Шевченко. Но ее кроткое сердце
понимало силу любви к ней неудачливого, бедного, всегда жившего не своей, а
чужой жизнью, робкого пожилого человека. А он понимал ее молодую надежду,
- вот придет сельский лыцарь и уведет ее из тесной хаты отчима… А пришел
за ней он, в старых чоботах, с большими темными мужицкими руками, виновато
покашливая, и вот смотрит он на нее с обожанием, счастьем, виной, горем. И
она виновата перед ним, кротка, молчалива.
И сын у них, Гриша, родился тихий, никогда не заплачет, и, похожая после
родов на худенькую девочку, мать иногда подходила к люльке ночью и, видя,
что мальчик лежит с открытыми глазами, говорила:
- Та ты хоть поплачь трошки, Гришенька, чего ты все мовчишь та мовчишь?
И в хате муж и жена разговаривали вполголоса, а соседи удивлялись:
- Та чего це вы так тыхо балакаете?
И странно - она, молодая женщина, и он, пожилой, некрасивый мужик, были
очень схожи своими кроткими сердцами, своей робостью.
Работали они оба безотказно и даже вздохнуть стеснялись, когда бригадир
несправедливо гнал их не в очередь в поле.
Однажды Василий Тимофеевич по наряду от колхозной конюшни поехал с
председателем в райцентр, и, пока председатель ходил в райзо, райфо, он,
привязав лошадей к тумбе, зашел в раймаг и купил жене гостинец - маковников,
леденцов, сушек, орешков, всего понемножку, по сто пятьдесят граммов. Когда
он, войдя в хату, развязал белую хусточку, жена радостно, по-детски
всплеснула руками, вскрикнула: “Ой, мамо”, и Василий Тимофеевич,
застеснявшись, вышел в сени, чтобы она не увидела его счастливых, плачущих
глаз.
Она ему на риздво вышила узор на рубашке и так уж не узнала, что Василий
Тимофеевич Карпенко в эту ночь почти не спал, подходил босыми ногами к
комодику, на котором лежала рубашка, гладил ее ладонью, щупал вышитый
крестиками незамысловатый узор. Он вез жену из родильного отделения районной
больницы, она держала на руках ребенка, и ему казалось, что проживи он
тысячу лет - он не забудет этого дня.
Иногда ему становилось жутко - мыслимое ли дело, чтобы в его жизни
случилось такое счастье, мыслимо ли вот так проснуться среди ночи,
прислушаться к дыханию жены и сына.
Разве тихая, робеющая перед всеми людына имела право на такое дело?
Но вот так оно было. Он шел с работы к дому и видел пеленочку, сохнувшую
на плетне, и дымок из трубы. Он смотрел на жену - она наклонилась над
люлькой, ставит на стол тарелку борща и улыбается чему-то, он глядит на ее
руки, на волосы, выбившиеся из-под хустки, он слушает, что говорит она о
немовлятке, о соседней овце. Иногда она выходила в сени, и он скучал, даже
тосковал, ожидая ее, а когда она возвращалась - он радовался, и она, уловив
его взгляд, кротко и грустно улыбалась ему.
Василий Тимофеевич умер первым, опередив на два дня маленького Гришу. Он
отдавал почти все крохи еды жене и ребенку и потому умер раньше их.
Вероятно, в мире не было самопожертвования выше того, что проявил он, и
отчаяния больше того, что пережил он, глядя на обезображенную смертным
отеком жену и умирающего сына.
Ни упрека, ни гнева к великому и бессмысленному делу, что совершали
государство и Сталин, не испытал он до последнего своего часа. Он даже не
задал вопроса: “За что?”, за что ему и его жене, кротким, покорным,
трудолюбивым, и тихому годовалому мальчику определена мука голодной
смерти.
Перезимовали скелеты в истлевшем тряпье вместе - муж, молодая жена, их
маленький сын, бело улыбались, не разлученные после смерти.
Потом уж, весной, когда прилетели скворцы, зашел в хату, прикрывая рот и
нос платком, уполномоченный земельного отдела, оглядел керосиновую
лампочку без стекла, образок, комодик, холодные чугуны, кровать и сказал:
- Тут двое и малэ.
Бригадир, стоя на пресвятом пороге любви и кротости, кивнул, сделал
пометку на клочке бумаги.
Выйдя на воздух, уполномоченный посмотрел на белые хаты, на зеленые
садки, сказал:
- После того как уберете трупы, восстанавливать ось эту развалюху нема
смысла.
И бригадир вновь кивнул.
Злобно врущее зловрейство, хамской наглости привычки –
Нынче звать “гуманитарий”!.. Я беру его в кавычки.
Разве он – гуманитарий? Без кавычек – он свинья,
Шмаровоз на холуятне русофобского вранья!
ЮННА МОРИЦ
Офлайн
- Начало
- » Историософия
-
» О голодоморе на Украине на примере ОДНОЙ деревни.
![[RSS Feed] [RSS Feed]](/static/djangobb_forum/img/feed-icon-small.png)